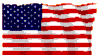ФИЗИКО -ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛОБОРАТОРИЯ ГЛУШКО

PHYSICAL - TECHNICAL LABORATORY GLUSHKO

WE CHANGE THE FUTURE
МЫ МЕНЯЕМ БУДУЩЕЕ

НЕМНОГО О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ КАК ТАКОВЫХ И - “ДО КАТАСТРОФЫ В АЛМАТЫ ОСТАЛОСЬ....”.
Дотошная статистика свидетельствует, что человечество, за обозримую историю своего существования, потеряло от землетрясений более 150 млн. жизней. Ежегодно сейсмические станции Земли регистрируют примерно 7 - 10 тысяч подземных толчков разной силы: около тысячи из них средней силы, до ста пятидесяти - сильные и не менее десяти - катастрофичны.
_____________________________________________________________
И, как правило, это происходит внезапно. 18 июля 1976 года в Китае промышленный город Таншань, с миллионным населением, был почти полностью уничтожен. Шестьсот пятьдесят тысяч человек, за минуту перед катастрофой, спокойные и безмятежные, гибнут в мгновение ока.
Но…. ! Если есть точный прогноз, то в том же Китае (провинция Ляонин, г. Хайчен, с более чем миллионным населением) благодаря тревоге, объявленной за два дня до не менее сильного землетрясения, случившегося 5 февраля 1975 года и на 90% разрушившего город, была спасена жизнь многих тысяч людей (число жертв менее 700 человек).
Проблема раннего прогноза землетрясения для Алматы всегда была актуальной, поскольку город расположен в одном из самых сейсмоопасных районов бывшего Союза, в сейсмозоне, где возможны землетрясения силой 9 - 10 баллов и более. Из архивных документов известно, что город Верный, ныне Алматы, трижды (1887,1889 и 1911 годах) подвергался разрушениям в результате сильных землетрясений.
Не надо быть знаменитым футурологом, чтобы не увидеть в судьбе Таншаня судьбу Алматы в отсутствии краткосрочного прогноза землетрясения, поскольку точно известно, что землетрясения повторяются (это один из законов сейсмологии). Время подготовки землетрясения как раз и связано с его повторяемостью, или, как чаще говорят, длительностью сейсмического цикла.
Установлено, что это время пропорционально кубическому корню из величины энергии будущего толчка. Например, слабые землетрясения (магнитуда 5,3) имеют длительность цикла примерно 10-15 лет, а для сильнейших землетрясений планеты цикл достигает 100-200 лет. Об этом надо помнить особенно нам, жителям старого Верного, поскольку последнее землетрясение в нашем городе произошло 98 лет назад, следовательно, мы находимся в зоне будущего сильнейшего землетрясения планеты.
Что же на сегодняшний день имеет наука в своём арсенале по краткосрочному прогнозу землетрясений? Поясним, при долгосрочном прогнозе время ожидания землетрясения измеряется годами, среднесрочном - месяцами, краткосрочном - днями, оперативном - часами или минутами. Нас, жителей Алматы, интересуют два последних, поскольку от их правильности и точности непосредственно зависит наше будущее. Или мы останемся под обломками зданий разрушенного города. Или живые и здоровые, с заранее припасёнными запасами, примемся восстанавливать свой город.
Цель настоящей работы состоит не в том, чтобы запугать жителей бывшей столицы Республики Казахстан, которые, за почти 100 летний спокойный сейсмический период, забыли о законах сейсмологии и сейчас строят 20 этажные здания в сейсмоопасной зоне. Зоне, где расчётная величина энергии будущего толчка “подземной бури” камня на камне не оставит даже от одноэтажных домов, не говоря об многоэтажных зданиях. А предлагается прямо посмотреть на проблему, стоящую перед сейсмологами республики, и, в какой-то мере, указать или подсказать на совершенно новое направление в развитии науки краткосрочного прогноза землетрясений. Поскольку только достоверный краткосрочный прогноз спасёт жизни людей более чем полутора миллионной южной столицы республики, которые могут возродить город, из каких бы зданий он не был построен. Мёртвые это не сделают. Вспомним катастрофы в Хайчене и Таншане, отметив при этом, что Таншань полностью так и не восстановлен.
Действительно, то направление исследований по разработке краткосрочного прогноза землетрясений, которым мы занимались по личной инициативе, а в силу обстоятельств сегодняшнего времени эти работы были полностью прекращены, достаточно необычен и лежит далеко в стороне от проторённого русла сейсмоисследований, но которое, на наш взгляд, может оказаться ключом к разрешению труднейшей научной проблемы. Общеизвестно, что взгляд со стороны специалистов другого профиля, на, казалось бы, неразрешимую проблему иногда может принести больший успех в её решении, нежели длительное противостояние ей “лицом к лицу” знатоков данного дела.
Известно, что само землетрясение представляется собой как одна из фаз процесса, протекающего в земной коре. Со стороны физики и геофизики здесь, казалось бы, всё просто. Землетрясение, это сотрясения почвы, возникающие вследствие внезапного разряжения напряжений в земной коре и верхней мантии, накопленных в результате сдвиговых деформаций при механическом движении земной коры (тектонические процессы). Зарождающееся землетрясение - это прекращение механического перемещения тектонических плит вследствие их прямого контакта, приводящее к накоплению энергии упругой деформации материала плит.
Всё это просто в понимании. Но как провести необходимые замеры, представляющие собой основу научного прогноза? Ведь всё дело в том, что заглянуть под землю на глубину в 20 - 200 км. можно только мысленно. К тому же, находясь на поверхности земли необходимо контролировать огромные территории проживания людей, поскольку неизвестно, где образуется очаг будущего землетрясения. При этом точно не известно и то, а что именно необходимо измерять, чтобы точно знать момент времени, когда грянет беда. Поэтому, наука сейсмология, решая поставленную задачу, пошла несколькими путями.
С одной стороны начали разрабатываться способы измерения прямых характеристик подготовки будущего очага землетрясения, связанные именно с механическим движением земной коры и проявлением этого движения на земной поверхности в виде её деформаций. Деформация обнаруживается при помощи геодезических съёмок, триангуляции, нивелировании и съёмок с помощью геодиметров (современные геодиметры измеряют расстояния на местности с использованием лазерных дальномеров).
В дополнение к геодезическим работам, которые в основном носят прерывистый характер, ведут непрерывные наблюдения за движением земной коры при помощи наклономеров и деформографов различных типов. На практике, в ряде случаев, бесспорно, наблюдались аномальные наклоны плит перед сильными толчками. Но этот эффект проявляется на малых расстояниях от эпицентра и в большинстве случаев чрезвычайно осложнён различными помехами.
Такие наблюдения уже много лет проводятся на Курильском полигоне (остров Шекотан), где землетрясения практически регулярны. Но и здесь очень редко удаётся получить полезную для прогноза информацию. В других местах, с нерегулярным появлением землетрясений, не располагая данными о местонахождении эпицентра будущего землетрясения, сталкиваются с необходимостью контролировать значительную территорию проживания населения, что не всегда возможно по экономическим соображениям.
С другой стороны стали использовать опосредованные (косвенные) методы, поскольку сдвиговые деформации приводят и к другим эффектам, например, таким, как пульсации гидрогеосферы, что проявляется в уровне подземных вод в скважинах или их дебите, так как вследствие деформации коры меняются пути миграции подземных вод (открытие СССР № 273).
Система “скважина - водоносный горизонт” представляет собой естественный прибор - деформограф. Поэтому колебания уровня воды - это, по существу, запись деформаций земной коры. Механизм этих явлений понятен, как и понятно то, что при этом должен изменяться и химический состав подземных вод, поскольку деформации сопровождаются растрескиванием горных пород, появлением новых русел со стенками из других минералов и т. д. (открытие СССР № 129).
Так накануне ташкентской катастрофы 1966 года концентрация радона выросла 5 раз. Дагестан 1968 года подтвердил эти выводы, а землетрясение в Сарыкамыше 1970 года было предсказано именно этим методом за три месяца до его начала.
Перед землетрясением резко меняется и поток почвенных газов. Особенно важно засечь компоненты глубинного происхождения: инертные газы (прежде всего гелий и радон), водород, азот, пары ртути и т.д.
Однако, если прогнозный сигнал (к примеру: изменение содержания сульфата-иона в воде) появляется примерно за 3 месяца до землетрясения, то ошибка определения даты события колеблется от нескольких дней до 1,5 - 2 недель. А это предвестники среднесрочного прогноза, что не решает нашей задачи. Однако их упоминание здесь необходимо как подтверждение правильности нашего представления механизма землетрясения.
Прямых и косвенных признаков, предвестников будущего землетрясения, выявлено достаточно много, более ста двадцати. Приводить их всех здесь мы не будем, укажем ещё только на некоторые, отражающие динамику подготовки землетрясения, такие как: “сейсмическое затишье” перед землетрясением и изменение характеристик движения тектонических плит или их полная остановка; появление “роёв землетрясений” - (серий очень слабых толчков); миграцию сейсмичности к эпицентру (к какой-то одной зоне) и др. Эти предвестники проявляются в срок от нескольких месяцев до нескольких лет.
Непосредственно к краткосрочным предвестникам относятся так называемые индукционные явления (или наведённые, генерируемые самим очагом будущего землетрясения): - это электромагнитные эффекты. При сжатии и разрушении пород возникают различные электромеханические и электрокинетические явления, которые порождают переменные электрические поля под землёй и в атмосфере, аномалии электротеллурического (подземного) поля и удельного электрического сопротивления грунта, электромагнитное излучение разных видов в атмосфере и даже в ионосфере, геомагнитные аномалии, а иногда и световые эффекты.
Самый эффектный - хотя и не частый электромагнитный предвестник - световые явления. Это полное или частичное свечение неба, почвы, гор, приземной атмосферы красного, белого, голубоватого цвета. Замедленные вспышки исполинских молний, светящиеся полосы, шары, движущиеся с шумом облака и т.п. Это и есть оперативный предвестник (сутки и менее). Красочные световые эффекты были перед Ташкентским землетрясением и во время него. Яркие бесшумные светящиеся полосы видели люди перед Ашхабадским землетрясением.
Как видите выявлено достаточно много и краткосрочных предвестников. Здесь уместно упомянуть и о другом важном геофизическом предвестнике (хотя он и не индукционный) - это отношение скорости продольных волн к скорости поперечных сейсмических волн, которое, перед самим землетрясением, начинает заметно убывать - это тоже краткосрочный предвестник.
К сожалению, индукционные предвестники далеко не всегда действительно предшествуют землетрясению: иногда они отсутствуют, а землетрясение происходит, или появляются по другим причинам, а землетрясение ждут годами. Даже их комплексное использование далеко не во всех случаях улучшает прогноз. Возникают большие трудности при их измерении и выделении на фоне шумов (например, сейсмомагнитный эффект составляет величину около 1/500 напряженности земного магнитного поля).
Нельзя не упомянуть и о “биологических предвестниках” - то есть необычном поведении животных перед сильными толчками. Упоминавшийся в начале статьи самый знаменитый прогноз землетрясения 1975 года в Китае, сберёгший сотни тысяч жизней, на последнем этапе опирался в основном на поведение животных. Вспомним о трагическом Ашхабадском землетрясении 1948 года, унесшем 110 тысяч жизней. Вряд ли в это время в Туркмении была аппаратура, способная зарегистрировать “геохимические предвестники” или “аномалии электротеллурического поля”. Но фактом остаётся то, что за несколько дней с предупреждением о близкой катастрофе в Ашхабадский горком пришли аксакалы. Ссылались они на необычное поведение животных.
Приведённый выше экскурс в историю науки краткосрочного прогноза землетрясений говорит о том, что в области пространства эпицентра будущего землетрясения заметно меняются многие физические характеристики окружающей среды. Но вся проблема заключается в том, что мы не знаем того, что конкретно необходимо измерять (помимо тех предвестников, о которых говорилось выше, поскольку не один из них не обладает свойством всегда появляться перед землетрясением) чтобы правильно и точно предсказывать грядущую беду. Имеющиеся примеры верных предсказаний - пока скорее удача, чем научное достижение.
Некоторые специалисты считают, что предельная точность достоверного прогноза землетрясений принципиально ограничена и уже почти достигнута. Проводится аналогия с атмосферными явлениями – грозой и ударом молнии. При этом утверждается, что о грозе практически известно всё и: - “... . Однако этот закон не позволяет оценить, когда и в каком месте это произойдет в следующий раз”.
Ой ли!!! В этом следует усомниться. Аналогия прекрасная - подземные бури и грозы. Но так ли здесь бессильна наука. Относительно той же грозы. Если известно движение грозового фронта и особенности проходимой им местности, а так же измерены напряженности электрических полей и электропроводность воздуха (эти характеристики в принципе измеряемы), то гарантирована 100% точность предсказания события - удар молнии, который может поразить, или одинокое дерево, или заводскую дымовую трубу и т.д. Или вообще всё может обойтись, без молнии. Просто это никто и никогда не делал, уж очень незначительное, по своим масштабам, событие. К тому же изобретён громоотвод.
Тоже самое возможно сделать и относительно подземных гроз. Иными словами – разработать систему краткосрочного прогноза землетрясений, где всё будет ясно и понятно и где достаточно простой физический закон объяснит, почему землетрясение произошло именно в это мгновение и именно в данном районе. И вот какие к этому есть основания. Но прежде сделаем небольшое, но очень важное отступление, необходимое для дальнейшего понимания предлагаемого.
Наука о предсказаниях землетрясений на постсоветском пространстве зародилась сравнительно недавно и это, в основном, было связано с происшедшими разрушительными землетрясениями в СССР. Первая научная программа была составлена в 1949г. сразу после землетрясения в Ашхабаде.
Предшествующий любому научному исследованию статистический анализ показал, что представляется возможным делать предварительную оценку вероятности возникновения землетрясения определённой магнитуды в определённый интервал времени определенного участка земной поверхности. Эти данные невозможно использовать для предсказания конкретного места и точного времени будущего землетрясения, но он полезен для приближенной оценки сейсмической опасности в данном районе при строительстве (это так называемое сейсмическое районирование). Например, район на карте, где произошло землетрясение, окрашивают желтой краской. Если в этом районе произошло ещё одно землетрясение, то новое окрашивание его желтой краской сделает цвет бумаги более тёмным. И так далее. Районы на карте, имеющие коричневый цвет, который появляется от многократного окрашивания, считаются сейсмоопасными. Конечно же, окраска районов на карте ведется не только по факту событий, которые произошли здесь со времён “предков”, а с учетом периодичности и бальности происходящих здесь землетрясений и другим сопутствующим им характеристикам.
С другой стороны именно статистические исследования указывают на периодическую повторяемость землетрясений. При этом сразу возникают вопросы о причинах и о силах, которые дали эти самые сдвиговые деформации. Почему подавляющее число землетрясений приурочено к тектоническим разломам, проникающим вглубь земли, почему землетрясений больше в молодых разломах, не засыпанных осадочными породами? Сколь длительна подготовка землетрясения и в чём смысл этого процесса? Вопросов много, но еще больше ответов на них, причем, совершенно различных, характеризующих собой индивидуальный взгляд исследователя на проблему.
Однако, анализ показывает, что все известные подходы к решению проблемы раннего прогноза разбиваются на два больших класса при ответе на вопрос, а в чём причина землетрясений и откуда они черпают энергию? Если при ответе подразумеваются только ядерные процессы, проходящие в ядре планеты, или что они носят химический характер (так как на глубине при колоссальных давлениях почти все перемены в состоянии вещества связаны с изменением энергии валентных электронов), и никакие внешние, например, космические факторы в этом процессе не участвуют, то это будет класс замкнутой изолированной системы планеты Земля.
Образно говоря, вроде бы мы с вами (всё человечество) сидим на крышке парового котла (представляющего нашу планету с её горячим ядром), который, не взаимодействуя ни с чем, летит в пустом космическом пространстве и подпрыгиваем вместе с крышкой в моменты, когда возросшее от нагрева давление пара приподымает крышку. А после выпуска излишков пара система приходит в равновесие на некоторое время, пока не наберется достаточное количество нового пара, а его энергия возрастёт на столько, что он вновь сможет приподнять крышку.
В таком представлении под землетрясениями должен пониматься некий “периодический” процесс подымания крышки (резкое движение тектонических плит, “сломавших” препятствие, мешавшее этому движению, на подобии разжавшейся пружины), поскольку другие силы в такой системе не предполагаются. При этом считается, что интенсивность тепловыделения топки котла почти постоянна, то есть она очень медленно убывает (в миллиарды лет оценивается возраст Земли). Однако, факторов, определяющих условия движения плит какого-либо конкретного региона планеты, их остановку и накопление в них энергии деформации, достаточно много и их параметры случайны, поэтому интервалы следования землетрясений здесь очень далеки от периодичности, которая имеется в “подпрыгивании у одной и той же крышки котла”. Не может быть строгой периодичности ещё и потому, что “крышек” у планеты много, а котёл всё же один. Но постоянство “горения” топки котла есть одно из основных условий периодичности землетрясений, которая регулируется состоянием земной коры контролируемого участка планеты. Такое представление хорошо согласуется с обнаруженными статистическими закономерностями землетрясений, их повторяемостью (но не строгой периодичностью, а стохастичностью, зависящей от многих факторов, сопоставимой со случайностью) и зависимостью силы толчка от времени подготовки землетрясения.
Но есть и другой ответ. Считается, что на Землю, при её движении по орбите вокруг Солнца и совместном галактическом движении с нашей звездой, действуют различные силовые поля, находящиеся в космическом пространстве, в частности гравитационные. Это обстоятельство приводит к тому, что землю-котёл (в рассматриваемом представлении) уже нельзя считать замкнутой системой и надо учитывать действие этих внешних полей на планету, то есть на интенсивность тепловыделения топки и условия равновесия крышки.
Сторонники этого направления, в качестве доказательства своей правоты, приводят данные о том, что число землетрясений зависит от местоположения Земли на орбите. Например: число землетрясений в средней Азии с магнитудой около четырёх (более шести балов) меняются по месяцам года. Минимальное их количество приходится на март и апрель; сентябрь и октябрь, а максимальное на декабрь и январь; июнь и июль.
Эти факты хорошо известны традиционной сейсмологии. Но когда просишь объяснить причины столь необычного феномена, то в глазах сейсмологов (традиционных) появляется злой огонёк. Действительно, согласно их взглядам, землетрясения – это вероятностные события, результат случайные стечения многих факторов. Но сразу возникает вопрос, а почему же тогда происходит указанное увеличение числа землетрясений в строго определенное время, как “по расписанию почтового поезда”? А поскольку это факт, то для существующей теории сейсмичности Земли, базирующейся на идее замкнутой системы, это уже нонсенс!
Самые ретивые из них выявленную сезонность числа землетрясений пытаются “объяснить” особенностями строения планеты и динамикой развития её ядра. Надуманность таких “объяснений” легко разбивается о фундаментальные физические законы сохранения.
Однако если встать на позицию, что наша планета не замкнутая система и находится во взаимодействии с окружающим её космическим пространством, то всё становится на свои места. Это рабочая гипотеза, но продуктивность её огромна. А чтобы её доказать или опровергнуть, надо искать объяснение увеличения сейсмической активности Земли, которое происходит в тех точек космического пространства, куда попадает наша планета, при своём годовом движении вокруг Солнца.
В отличие от других исследователей периодичности геофизических процессов, ищущих их причины только в особенностях строения самой солнечной системы и периодичности активности Солнца (кстати, связанной тоже с особенностями движения планет), то есть тоже космическим, но всё же локальным фактором, сотрудники нашей лаборатории изначально исходили из положения о наличии глобального космологического фактора, вызывающего (инициирующего) все эти явления. Понятие “глобальный”, в нашей интерпретации, - это внешний, по отношению ко всей солнечной системе, фактор.
Иными словами, в согласии с этой идеей, гигантская вспышка на Солнце не является первопричиной земных землетрясений, а оба эти явления (солнечная вспышка и землетрясение) есть результат одновременной “реакции” звезды и планеты на внешнее воздействие, пришедшее из глубин космоса. Да и само строение солнечной системы оформилось под воздействием влияния космической среды, окружающей звезду и её систему планет. И более того, это воздействие “динамическое”, иными словами, движение планет и сейчас находится под воздействием космических сил, которые определяют особенности их траекторий.
Вывод о наличии динамического космического фактора, действующего ежесекундно на все тела солнечной системы, вытекает из анализа множества геофизических фактов. Например, метеорологи установили, что земная атмосфера опережает скорость вращения планеты. Величина её импульса огромна, в среднем он равен 13 · 1025 кг · м2 · с-1. При этом он меняется в течении года 4 раза: в апреле и ноябре он примерно равен 14· 1025 кг · м2 · с-1, а в августе и феврале - 9· 1025 кг · м2 · с-1. Это та же периодичность, что и у землетрясений. Изменения в энергии движения воздуха огромны, но в чём причина столь грандиозного явления?
Однако не менее любопытен и другой факт, но уже установленный геофизиками - в указанные времена года меняется и скорость вращения планеты! И здесь цифры, связанные с величинами преобразуемой энергии, ещё более внушительны. Суточный период вращения планеты может измениться почти на 0,001 с. Причём, скорость вращения её бывает наименьшей в апреле и ноябре, а наибольшей в конце января и начале августа. Такие совпадения неслучайны!
Наблюдается периодичность и в движение северного полюса по поверхности планеты, который “прочерчивает” почти круговую траекторию. Но здесь период движения несколько иной и составляет от 1,13 до 1, 21 года, что объясняется нами изменением положения оси вращения под действием кориолисовых сил инерции.
Есть веские доказательства, что колебания климата имеют те же основания и опережают изменения концентрации главного “парникового” газа СО2, а не наоборот.
Известны и другие факты, полученные разными исследователями, работающими в своих областях науки, и обнаружившими указанную периодичность в своих предметах изучения. Зачастую они регистрируют только факт периодичности, без объяснения причин происходящих необычных явлений. Например: изменение скорости β-распада радиоактивных элементов; изменения хода химических реакций; биологических и социальных явлений.
Аналогичные закономерности выделяется и астрофизиками, например, при изучении напряженности галактического магнитного поля; распределения звезд в галактике и т.п. В пользу космического фактора говорят работы по исследованию годовой динамики гравитационного потенциала и многое другое.
Но самое любопытное обобщение преподнесла физика, в современном научном мировоззрении представляющая собой науку наук. Многочисленными измерениями, проведёнными обсерваториями разных стран мира, было установлено, что солнечная система движется со скоростью более 600 км/с относительно неподвижных звёзд по направлению из созвездия Водолея в созвездие Льва. Этот факт подтвердило и измерение скорости движения солнечной системы, относительно микроволнового фонового излучения вселенной (так называемое реликтовое излучение, которое, в современной парадигме научного знания, олицетворяет собой выделенную глобальную системы отсчёта, отождествляемую с понятием “современного эфира”). Правда оно выявило другую цифру – 450 км/с. Но направление этого движения совпадает с астрономическими измерениями, то есть система движется том же направлении, из созвездия Водолея в созвездие Льва. И именно с этим направлением сейчас, в наше время, совпадает большая полуось эллипса орбиты нашей планеты. Причем, точку перигея Земля проходит с декабря на январь, а точку апогея - с июня на июль. Те есть, это те же самые месяцы, что и в периодичности геофизических явлений. И этот факт мы не считаем случайным совпадением.
Но самым важным в этом обобщении является то, что физика не может теоретически объяснить причины движения планет по эллиптическим орбитам. Для нас этот момент важен тем, что только у таких орбит есть точки апогея и перигелия, то есть точки кульминации всех геофизических явлений. Действительно, известен первый закон Кеплера, который является обобщением огромного объёма экспериментальных данных наблюдаемого движения планет. Закон гласит, что планеты вокруг Солнца движутся по эллиптическим орбитам. Установлено, что всемирный закон тяготения Ньютона удовлетворяет первому закону Кеплера, но он не предписывает строгую эллиптичность орбит – формы орбит могут быть другими, например: круговыми, параболическими, гиперболическими. Какие же силы заставляют планеты двигаться по эллипсу? И ни те ли же самые силы являются первопричиной, приводящей к периодичности многочисленных геофизических явлений, описанных выше?
Мы отвечаем положительно на второй вопрос. В нашем представлении пустое космическое пространство обладает физическими свойствами, а движение солнечной системы, как целого объекта, относительно его приводит к наблюдаемой анизотропии свойств этого пространства.
Действительно, в процессе движения солнечной системы планеты по разному взаимодействуют с пространством, поскольку наряду с поступательным движением всей системы участвуют ещё и в круговом движении вокруг Солнца. Это сложное движение планет приводит к тому, что одну часть траектории своей орбиты они движутся по направлению общего поступательного движения всей системы и, вследствие чего, имеют большую скорость движения относительно пространства, чем скорость движения всей системы. Тогда как другую часть траектории своей орбиты они проходят с меньшей скоростью. Например, если принять скорость движения солнечной системы относительно неподвижных звёзд равной 600 км/с, то Земля одну часть траектории движется со скоростью 630 км/с (скорость движения Земли вокруг Солнца равна 30 км/с), а другую часть траектории она проходит со скоростью 570 км/с. Если учесть то, что в соответствии с положением о наличии физических свойств у пространства кинетическая энергия движения тела выражает собой меру взаимодействия тела с пространством, то планеты на разных участках траектории имеют различные величины кинетической энергии (разная скорость). А изменение энергии движения тела возможно только под действием силы. Именно эти силы и заставляют планеты, как целое тело, двигаться по эллиптическим орбитам.
Но планеты ещё и вращаются вокруг соей собственной оси, то это движение приводит к возникновению внутренних сил, действующих на различные области вращающейся планеты, то есть прямо влияют на движение тектонических плит её твердой оболочки. В точках апогея и перигелия траекторий орбит планет происходит смена скоростей планеты, относительно пространства, а поэтому именно с этими точками связано и увеличение сейсмической активности на нашей планете, как и изменение в интенсивности других геофизических явлений. Именно это взаимодействие с пространством и представляет из себя многогранный космологический фактор, приводящий к строгой периодичности в интенсивности протекания геофизических явлений.
Относительно периодичности землетрясений можно утверждать, что, при условии отсутствия внешнего фактора, “крышка котла” будет подпрыгивать (активность горячего ядра нашей планеты ещё достаточно высока) и, возможно, с какой-то периодичностью, которая предполагает постоянство факторов этого процесса, о чём уже говорилось выше. Но, в согласии с этой гипотезой, вероятность совпадения этой периодичности с опредёлёнными точками траектории орбиты планеты достаточно мала. Но более вероятным предполагается другое: в отсутствии космологического фактора не было бы вовсе и самих землетрясений, поскольку не было бы причин, приводящих к движению тектонических плит, а тем более к изменению параметров их перемещения. Действительно, причины их перемещения напрямую можно связать только с изменением поступательного движения солнечной системы в целом, относительно пространства. Развивая эту гипотезу, можно прийти к выводу, что только под действием космического фактора меняется условие равновесия в коре и её участки приходят в движение, стремясь к новому положению равновесия с этим фактором (при этом учитывается и изменение интенсивности тепловыделения котла под действием космического фактора).
Но что нам даёт такая классификация научных подходов к решению проблемы краткосрочного прогноза землетрясений? А вот что. В согласии со вторым подходом, или открытостью системы Земля, появляется возможность по регистрации изменения состояния космического фактора предсказывать землетрясения. Появился сигнал об изменении космического фактора - через некоторое время (скрытое время перестройки огромной инерционной системы, какой является планета, к новому положению равновесия) жди землетрясения. Нет изменений состояния фактора, то и нет последствий, то есть землетрясений. При этом имеется ввиду ни только анизотропия свойств пространства, возникающая вследствие движения солнечной системы относительно пространства, но и то, что само пространство может изменятся под действием иных космических причин, например, в следствии движения планет и изменения напряженности их гравитационных полей в районе расположения Земли, с приходом гравитационных волн или импульсов из глубин вселенной, или по другим космологическим причинам.
Теоретически (как указывалось выше) таким космическим фактором могут быть только гравитационные поля планет и Солнца, галактические и межгалактические поля, гравитационные волны и импульсы и т.п.. Приборная регистрация гравитационных полей сама по себе является очень трудной технической задачей. А в нашем случае её сложность возрастает на порядки, поскольку здесь приходится производить измерения изменения внешних полей на фоне “местного” поля земного притяжения, которое на порядки больше их по своей величине. Причём, существенным здесь является не сам потенциал поля, а его изменение во времени (точнее, вторая производная по времени), что является еще более сложной задачей.
Нам известны только два случая практического решения указанной выше задачи. В первом случае с ней чисто случайно столкнулись физики МГУ им. Ломоносова при проведении экспериментов по изучению вариаций гравитационной постоянной с течением времени, обнаружив эффект “сбесившегося маятника” (так окрестили обнаруженное явление). Суть явления заключалась в том, что прибор (крутильные весы), помещенный в глубокую шахту, где воздействие внешних помех на него сводилось к нулю, вдруг, без видимых причин, приходил в состояние сильных колебаний.
Наблюдалось несколько случаев. Ясным было только одно, что воздействовать на него могло только переменное гравитационное поле. Но неизвестно от какого источника. Непонятным был и способ генерации такого поля. Здесь одни загадки.
Во втором случае были специально разработаны и созданы несколько приборов (девять одинаковых устройств), снабжённых статическими усилителями (по типу эйлеровой потери устойчивости) предназначенных именно для измерения изменения гравитационных полей. Это установки "Алем" (вселенная) группы профессора О.В.Мартынова из Тульского политехнического института. Хотя установки создавались специально для целей краткосрочного прогноза землетрясений (основная надежда жителей Алматы), но должны были решить целый класс и других важных научных задач.
Две установки были смонтированы под Алматой, другие разбросаны по густонаселенным районам Казахстана. Они связаны единой цепью передачи и обработки получаемой от них информации и представляют собой уникальный, единственный в мире, научный комплекс подобного рода.
Установки выполнены в виде сплошных толстостенных металлических бочек, внутри которых размещены датчики. Бочки установлены в песчаной ванне, на внушительном по массе специальном фундаменте и находятся в помещении, где поддерживается постоянная температура. Ни один вид волн, измеряемых современными приборами, т.е. известных в науке и практике, кроме гравитационных, в неё (бочку) проникнуть не может.
При разработке и создании комплекса в 1985г. один из авторов настоящей статьи встречался с Олегом Викторовичем. При встречах обсуждалась проблема разомкнутости реальных систем материальных тел и физическом носителе, обеспечивающем эту концепцию, позволяющем учитывать прямые и обратные связи между взаимодействующими телами. А так же основе сенсационных предсказаний тех лет, сделанных шведскими учёными Иораном Винделиусом и Петером Тукером, пророчествовавших глобальные природные катаклизмы в 90 годах.
В процессе обсуждения выяснилась разница в подходе к требованиям, предъявляемым к предвестнику землетрясения. В частности это был ответ на вопрос о том, что именно может точнее отражать реальную ситуацию готовящегося землетрясения. Или это будет сигнал от изменения состояния мощного космического фактора, инициирующего землетрясение, которое может произойти спустя некоторое время после его появления. Или это будет сигнал от участков земной коры, материал которой, в результате деформации, приближается к состоянию механического разрушения.
Сошлись на втором варианте, предлагаемом нами, поскольку “сигналом” могли быть гравитационные волны и импульсы, действие которых на земную кору кратковременно, что не могло быть причиной землетрясения. Хотя они и могли быть тем “спусковым крючком” состояния неустойчивого равновесия системы, энергия и время действия которых позволяли подтолкнуть систему к высвобождению накопленной энергии деформации тектонических плит в своём движении к устойчивому равновесию.
Действительно, прибор Олега Викторовича, в силу его предназначения и конструкции, должен отмечать все случаи прихода (появления) космического фактора, величина которого должна быть не ниже чувствительности прибора. При этом было понятным, что не любая величина космического фактора вызывает землетрясение в районе расположения прибора, поскольку действие фактора распространяется на всю систему планеты. Тогда как только локальное наблюдение за состоянием земной коры сейсмополигона может точно предсказать начало подземной грозы в данном районе.
Работа на установках "Алем" в течении почти двадцати пяти лет показала нашу правоту. Действительно, часть сигналов, получаемых с помощью этих установок, не имела отношения к землетрясениям в контролируемом районе (ложная тревога). Такая неопределённость привносит элемент субъективизма в прогноз, поскольку с появлением прогнозного признака на экране монитора необходимо принимать решение: или о нажатии на кнопку тревоги, или о его игнорировании как признака. Встречается и совершенно противоположная ситуация, когда землетрясение происходило, а прогнозного признака на мониторе не было.
Так за первые 5 лет наблюдений из 27 землетрясений 12 класса и выше, случившиеся в районе установки, расположенной в урочище Медео, с радиусом в 500 км. от неё, в 10 случаях прогнозный признак отсутствовал. Такая неопределённость грозит бедой, пропадал весь смысл создания подобных систем для целей краткосрочного прогноза.
После первых лет эксплуатации установок Мартынова и обнаружении указанных выше фактов в открытой печати появились статьи с критикой идей Олега Викторовича, в которых использование его устройств, как прогнозных, называлась не ниже как авантюра. В основном это были так называемые “интервью” взятые у специалистов сейсмологов, уязвлённых в своей немощи дать достоверный краткосрочный прогноз, который, в их случае, являлся тривиальным простым угадыванием.
Действительно, как уже указывалось выше, современная сейсмология основывается на случайном характере происходящих землетрясений (в отношении места и времени), поскольку в объяснении причин происхождения землетрясений считает планету замкнутой динамической системой с собственным источником энергии, которая ещё не пришла в равновесие за миллиарды лет своего существования. Только поэтому всегда, когда происходят землетрясения в нашем регионе, сотрудники республиканского института сейсмологии, расположенного в Алматы, успокаивая жителей нашего города, говорят о якобы 80% вероятности того, что “… значительного землетрясения в ближайшие дни в городе не будет”. Откуда эта цифра? Если же смотреть правде в глаза - то с потолка! Она выдумана только для того, чтобы не будоражить общественное мнение и не более того.
Сделанное утверждение основано на том факте, что сейсмологи хорошо научились только регистрировать уже произошедшие землетрясения, вычислять их координаты, время толчка, его энергию и т.п. Они десятилетиями ведут их учёт и на основании полученной статистики пытаются предсказать будущие землетрясения. Это своеобразная игра в спортлото. В ней, по результатам наблюдения за состоянием геофизических факторов предыдущих землетрясений, и наблюдая за их сегодняшним состоянием, пытаются сделать прогноз предстоящего. Но предсказываемое событие действительно есть вероятное событие, а не достоверное. Оно может произойти, а может и не случится. Ни один из сотрудников института сейсмологии, “даже под дулом пистолета”, не сможет назвать ни только час, день или месяц будущего толчка, но и даже год будущей беды. И такое положение дел в сейсмологии не только у нас, а во всех странах мира.
Но, если отложить в сторону амбиции, то можно увидеть, что в 60% случаях перед землетрясением установки Мартынова фиксировали прогнозный сигнал. Таким свойством не обладает ни один из известных предвестников. Это факт и это не может быть случайностью. Задача науки и, в частности, сейсмологии, как раз и состоит в выявлении подобных совпадений, с целью понять их внутренние причины, а разобравшись в них – поставить на службу людям. И в случае Мартыновских “бочек”, в научном плане, всё же остро необходимо разобраться в работе этого устройства, в том, почему оно, то вырабатывает сигнал, то “молчит”. Что собой представляет этот сигнал, где его первопричина и какой путь он проходит в устройстве Мартынова при своей трансформации из одного вида энергии в другой, пока фотоэлемент не превратит его в электрический ток и не пошлёт в компьютер. И цель этой очень срочной и важной работы предельно ясна: - усовершенствование установки сделает её пригодной для целей краткосрочного прогноза и снимет кризисную ситуацию в городе.
И хотя бывшие и нынешние руководители указанной системы, утверждают (М.Хайдаров), что механизм работы прибора О.В. Мартынова хорошо известен и “бочка” может быть заменена на “современную сейсмостанцию с мощным компьютером”, но, как было показано выше, это далеко не так. По их мнению, система Мартынова реагирует на изменение поляризуемости и направление распространения микросейсмических колебаний земной коры, возникающих перед землетрясением, и “...очень точно распознает такие моменты и фиксирует их”.
Однако это утверждение следует признать только в качестве версии, поскольку создатель установок думал иначе. Действительно, как говорилось выше, Олег Викторович говорил о совершенно ином механизме работы своего прибора и прямо связывал его с космическим фактором, с которым планета находится в равновесии. Изменение фактора заставляет планету подстраиваться под него, что порождает землетрясения и вулканизм. Именно на изменения в состоянии космического пространства реагируют бочки Мартынова. В 1996г. руководство "Казселезащиты" вместе с НПК "Прогноз" по инициативе ГКЧС РК вели переговоры с нашей лабораторией о том, что надо бы всё же поставить точку в вопросе о том, на что же всё таки реагирует “бочка”, так как сотрудничество с Тулой, в следствии развала СССР, было утеряно и обслуживание системы, как в практическом, так и научном плане, полностью легло на плечи казахстанских учёных. Решение этой задачи остро необходимо для целей дальнейшего совершенствования метода Мартынова (или выработки своего оригинального решения) и доведения точности прогноза до уровня достоверного события.
Однако эта важнейшая работа так и не была проведена. Исследования форм преобразования энергии от “горизонтального маятника” (это основной конструктивный элемент “бочки” - то есть датчик), угол поворота которого регистрирует фотоэлемент, до первопричины, вызвавшей этот поворот, даже не были начаты. В физике этот прибор известен как “крутильные весы”, он является преобразователем 2го рода и “реагирует” только на силовые поля – электрическое или гравитационное, излучаемые телами. В нашем случае эти тела, которые создают гравитационные поля, проникающие в бочку, просто не известны.
Воздействие вибраций или микросейсмических колебаний на опоры подвеса “крутильных весов” может восприниматься только как помеха, не приводящая к инверсии энергии одного вида (колебаний почвы) в другой, т.е. к повороту коромысла весов в какую-то одну сторону. Более того, сама бочка установлена в специальной песчаной ванне, исключающей какую-либо передачу таких “поляризованных периодических колебаний”, то есть деформаций. К тому же установки Мартынова имеют и принципиальное отличие от традиционных крутильных весов и подобных устройств других авторов. Как указывалось выше - здесь использованы статические усилители (по типу эйлеровой потери устойчивости), которые впервые в технике были применены А. Эйнштейном (одно из его первых, хотя и не многочисленных, изобретений). Согласитесь, что такое состояние неведенья того, что именно регистрируется прибором, причём в течении более двух десятков лет непрерывных измерений, и от какого тела идёт это излучение, является более чем странным, особенно для науки. Но, тем не менее, это так и есть в действительности.
Но есть и другое решение проблемы краткосрочного прогноза землетрясений – это метод, который предлагается нашей лабораторией, о котором вскользь уже упоминалось выше.
Если сделать небольшой экскурс в историю нашего метода, то, к тому время, когда Мартынов ещё только собирался приехать в Казахстан, мы уже закончили исследования старинного, незаслуженно забытого, экзотического прибора под названием “Штормглас”, механизм работы которого был также окутан тайной. Автор прибора и время его создания доподлинно неизвестны. По историческим хроникам, почти тысячу лет (до прихода в морское дело других средств наблюдения за состоянием погоды, особенно космических), прибор надёжно служил морякам тем, что задолго до появления шторма указывал с какой именно стороны придёт угроза и какой силы.
Прибор прост – это стеклянный герметичный сосуд, в который налит специально приготовленный спиртовой раствор, состоящий из камфары, селитры и нашатыря. Измерение ведется визуально по прозрачности раствора, интенсивности образования кристаллов в нём и их распределению по объёму пробирки. В условиях Алматы прибор работал чудесно и именно тогда мы впервые узнали (конечно же, это не было тайной для синоптиков), что у нас преимущественно дуют западные ветры и именно с запада в наш регион заносится влага.
Мы разобрались в “механизме” работы прибор и усовершенствовали его. Прибор изменился до неузнаваемости. На несколько порядков повысилась его чувствительность и точность. Теперь, через сложный раствор, состоящий из оптических активных веществ (сахар, скипидар, виннокаменная кислота и т.п.), пропускался луч света, идущий от лазера, и измерялся поворот плоскости поляризации и светорассеяние света, прошедшего через раствор.
Потом стали использовать источники света, дающие разный спектральный состав: от ультрафиолета до инфракрасного излучения. При этом у прибора открылись новые возможности и в частности с его помощью можно точно знать о готовящемся землетрясении и о времени, когда оно произойдёт. Было обращено внимание на то, что, если в текущих показаниях прибора наблюдается резкий спад, то это всегда указывало на то, что именно в это время где-то уже произошло землетрясение. Величина спада говорила об энергии этого землетрясения.
В поисках самого предвестника было установлено, что перед землетрясением резко возрастает ошибка в измерении угла поворота плоскости поляризации света, прошедшего через раствор. Когда относительная величина ошибки измерения становится равной 10% от измеряемой величины, происходит землетрясение. Так обнаружился предвестник.
С этим свойством прибора разобрались сразу. Если воспользоваться аналогией, то механизм указанного эффекта можно представить следующим образом. При измерении длины какого-либо предмета (например, металлического стержня) линейкой с миллиметровыми делениями всегда будет получаться одно и то же значение. Если же стержень измерять микрометром (при этом точность замеров повысится в 1000 раз), то обнаружим, что его длина постоянно изменяется, причём существенно, так что точное значение длины будет соответствовать лишь тому мгновению времени, когда производится сам замер.
Если же исследовать причины обнаруженного явления, то, например, выяснится, что длинна стержня изменяется в зависимости от температуры окружающего воздуха, то есть температуры самого стержня (эффект теплового линейного расширения тел). Более тщательные исследования покажут, что не только от температуры изменяются его размеры, она окажется комплексной величиной, зависящей от многих факторов: материала стержня и внутренних реологических процессов, происходящих в нем; наличия магнитных и электрических полей; вибраций и волн деформаций, происходящих в стержне и много другого, что уже хорошо известно современной науке.
Так и наш прибор, по чувствительности был выведен на уровень “микрометра” при измерении напряженности конформационных полей, представляющих собой одну из компонент излучения, идущего от тектонических плит. С ростом механического напряжения в них, в результате тектоники планеты, характер излучения, идущего от плит, изменяется, при этом меняется и величина поворота плоскости поляризации света, исследуемых спектральных линий. Угол поворота становится функцией времени, иными словами он “колеблется” возле вполне определённого среднего значения, что мешает процессу его точного измерения. То есть здесь всё происходит точно так, как в аналогии с длинной стержня и микрометром. И эта ошибка измерений амплитуды поворота плоскости поляризации луча света, то есть его колебания, и есть предвестник землетрясения. Исследования причин, приводящих к повороту плоскости поляризации света, помогли разобраться в механизмах многих других геофизических явлениях, происходящих на нашей планете.
Поясним сказанное выше. В результате исследований было установлено, что оптические свойства (поворот плоскости поляризации света, светорассеяние) сложных органических веществ (оптически активных веществ - изомеров) спонтанно изменяются в течении суток. Суточная динамика имеет несколько ярко выраженных максимумов и минимумов, одна часть которых приходится на определённые часы суток (например, на 4 и 24 часа), а другая связана с некоторыми геофизическими явлениями (например, с восходом и заходом солнца, самым большим по амплитуде эффектом среди всех исследуемых геофизических явлений), а оставшаяся часть носит стохастический характер. Сплошные металлические экраны (полная экранировка от электрических и магнитных полей), защита от вибраций и микросейсмики, температурная стабилизация и многое другое, не влияли на эффект. Обнаружены и другие особенности описанных явлений.
Анализ результатов опытов указывал на то, что силовым физическим полем, влияющим на вещество изомера (датчика), могло быть только гравитационное поле, поскольку только оно могло проникать через сплошные металлические экраны. В экспериментах были использованы толстостенные металлические камеры, вставленные одна в другую на подобии “русской матрёшки”. Коэффициент ослабления электрических и магнитных полей такого составного экрана был более десяти миллиардов раз.
Однако, суточная динамика этих явлений, в особенности реакция на восход и заход солнца, а так же реагирование на направление и силу ветра, состояние атмосферы и тому подобные факторы, которые заметно менялись в течении суток, указывали на то, что на вещество датчика, в большей степени, влияла не величина суммарного переменного потенциала гравитационного поля от всех материальных тел, образующих это поле, а его особая характеристика, отражающая пространственную структуру этого поля, состоящую из максимумов и минимумов его отдельных локальных участков.
Такая структура образуется в результате интерференции множества синфазных излучателей. В оптике подобная структура электромагнитного поля получила название голографического поля. В микрогравитации подобная структура называется конформационным полем. Поскольку исследуемые вещества представляют собой довольно обширный класс оптически активных веществ (глюкоза, скипидар, камфара и т.п.), которые состоят из асимметричных молекул (получивших название - изомеры), то такие ансамбли молекул, находящиеся в объёме конформационного поля четко реагируют на изменения в его интерференционных структурах, занимая соответствующее положение динамического равновесия в новой структуре поля. По сути интерференционная структура поля вместе с веществом изомера представляет собой своеобразный динамический кристалл, распространяясь через который плоскость поляризации света поворачивается. При изменении интерференционной структуры поля происходит разворот молекул, а, следовательно, изменяется поворот угола поляризации света, прошедшего через это вещество. Таков механизм работы нового датчика.
Были проведены многосуточные непрерывные замеры оптических свойств растворов разных изомеров и их смесей, но использовались только те из них, которые дают наибольший эффект на восход и заход солнца. Проведен корреляционный анализ между установленной динамикой оптических свойств изомеров и движением Луны вокруг Земли (реакция вещества на суммарное гравитационное поле, потенциал которого меняется в течении суток и от суток к суткам), а также между указанной динамикой и микросейсмикой региона наблюдения, направлением и силой ветров в месте расположения датчика и других геофизических факторов. Иными словами, исследовалась реакция вещества датчика на изменения в структуре конформационного поля в месте наблюдения.
Помимо этого, с созданием второй аналогичной установки, изучалось пространственное и временное воздействие факторов на вещество датчиков обоих установок, которые были разнесены почти на километровое расстояние друг от друга. Эти исследования помогли наиболее четко установить наличие фактора именно космического происхождения, который синфазно регистрировался датчиками обоих установок. Время и продолжительность действия фактора, его форма (вид кривой на самописце) не были связаны ни с одним из геофизических процессов, протекающих на нашей планете, имеющих, как правило, суточный или кратный ему ритм. По этому признаку фактор достаточно просто можно было выделить на фоне геофизических процессов.
Действительно, в одних случаях действие фактора было одиночным, разной амплитуды воздействия (от десятков до тысяч процентов от величины амплитуды геофизических факторов, регистрируемых прибором) и общей продолжительностью от секунд, до нескольких десятков минут. В других случаях это был длительный процесс, регистрируемый только в определённое время суток (чаще всего в ночное; заметим, что в это время воздействие разных помех на датчик, так называемых технологических шумов, уменьшалось до минимума), продолжительностью в несколько месяцев. Сам процесс представлял собой последовательность импульсов разной длительности и формы, с периодичностью следования немногим меньше минуты (чаще всего в 42 секунды), с большой амплитудой (до 500% от амплитуды технологических шумов). Было обнаружено и много других особенностей в “реологических свойствах” оптически активных веществ, которые было невозможно отождествить с изменениями в их веществе, берущими энергию от каких-либо геофизических процессов или неконтролируемых особенностей работы сложной электронной аппаратуры устройств. Разбор этих особенностей хотя и очень интересен, но выходит за рамки настоящей статьи, а поэтому сейчас вернёмся к предвестникам землетрясений.
Именно об этом мы спорили с Мартыновым по поводу способа предсказания землетрясений в каком-либо конкретном районе наблюдения, в частности в Алматы. Пришли к выводу, что космический фактор – это, бесспорно, есть первопричина всех землетрясений, поскольку он один из всех факторов, который обладает свойством периодичности или спонтанного возникновения в зоне готовящегося землетрясения, то есть являет собой ту последнюю энергетическую добавку в систему неустойчивого равновесия тел, которая и выводит её из этого состояния.
Действительно, не каждое воздействие космоса на планету приводит к землетрясению именно в наблюдаемом районе. С одной стороны, под действием космического фактора активизируется горячее ядро планеты (топка котла), а, следовательно, и тектонические процессы. Но выделившаяся добавочная энергия может быть недостаточна для вызова землетрясения именно в регионе наблюдения. В другом же районе планеты, где не хватало именно такой доли энергии, землетрясение непременно произойдёт. А с другой стороны, сам фактор непосредственно действует и на сами тектонические плиты и система неустойчивого равновесия, состоящая из этих плит, под его воздействием может перейти в другое устойчивое состояние. Иными словами, ни столько нужен прибор, который регистрирует приход космического фактора, действующего на всю планету в целом (как это есть в устройствах Мартынова), а сколько необходим прибор, следящий за состоянием вещества тектонических плит, которое может не выдержать возросшее напряжение деформации. Таким образом, чтобы точно знать о готовящемся землетрясении, нужен прибор или, скажем так - “градусник” для каждого конкретного региона планеты, который будет показывать, когда вещество тектонических плит под действием возросшей деформации начнёт разрушаться, т.е. “закипит”. Вот им и является наш прибор, который контролирует состояние тектонических плит в месте его расположения.
Описанные выше исследования, проведённые в нашей лаборатории, позволили разработать способ раннего (краткосрочного) прогноза землетрясений в районе расположения вещества датчика. По изменению физических характеристик светового потока, прошедшего через вещество датчика, можно судить, как о существующей величине упругих деформаций в земной коре, так и об объёме (суммарной массе) всего сдеформированного вещества земной коры. Эти две характеристики как раз и отражают энергию будущего землетрясения. Причём, разным оптическим характеристикам (участкам спектра) луча света, прошедшего через вещество датчика, соответствуют объёмы сдеформированного вещества земной коры, находящиеся на различном расстоянии от датчика. Красный свет отражает деформацию удалённых от датчика участков тектонических плит, а фиолетовый – ближайших к датчику. А по изменению величины дисперсии измеряемой характеристики (по её динамике) можно судить о времени начала катастрофы. В момент времени, когда дисперсия достигает значения примерно равного 10% от среднего значения величины измеряемой характеристики, происходит землетрясение.
Описанные выше свойства датчика нами объясняются следующим образом: большему объёму сильно деформированного вещества земной коры, соответствует более четкая и более сложная структура конформационного поля, чем меньшему объёму менее деформированного вещества (иными словами четкость картинки зависит от числа излучателей и мощности их излучения). Само вещество тектонических плит находится в непрерывном тепловом движении (колеблется), а поэтому, в такт своего движения, оно излучает гравитационные волны. Мощность излучения каждого такого отдельного осциллятора мизерная, но сами излучатели действуют синхронно и их огромное количество, а поэтому в пространстве возникает интерференционная картина от всего этого множества механических вибраторов. В точках максимума этой картины напряженность гравитационных полей уже на сотни порядков больше их первоначальной величины, и на особенности такой картины как раз и реагируют асимметричные молекулы вещества датчика.
При движении тектонических плит в самих плитах возникают механические напряжения, которые влияют на структуру интерференционного поля. И, как следствие, эта структура поля влияет на оптические характеристики датчика. Предельные напряжения в земной коре приводят к пластическим деформациям её материала (когда одна тектоническая плита зацепилась за другую и её движение прекратилось, а возникшие напряжения возросли на столько, что могут привести к разрушению материала плит), при этом структура конформационного поля, идущего от плит, существенно меняется, что приводит к “размытости или дрожанию” верхней границы измеряемой величины поворота плоскости поляризации света, т.е. к увеличению ошибки измерения (возрастанию дисперсии). Именно это увеличение ошибки при измерении угла и являет собой предвестник землетрясения.
Ещё несколько лет назад в лаборатории велись каждодневные замеры состояния конформационных полей в месте расположения датчика, но и тогда мы не могли, в случае угрозы землетрясения, заблаговременно оповестить город. Действительно, радиус действия каждого из двух наших приборов не превышал 75 км. , но оба они находились в здании (практически на окраине города), где размещалась лаборатория (иными словами, мы содержали всего один сейсмический пост наблюдения), а эпицентр будущего землетрясения мог быть за границей его чувствительности (на другой окраине города). Да что могут значить для Алматы эти 75 км., если случится землетрясение 17 – 19 класса, да ничего, город будет разрушен. Иными словами, для Алматы одного поста наблюдения (с указанной величиной чувствительности прибора) конечно же недостаточно: город большой и вместе с пригородом и городами спутниками - Каскеленом, Талгаром, Капшагаем и прилегающими к ним селами, представляет собой регион с поперечником более чем в 100 км. Для гарантированного обеспечения безопасности региона нужна сеть станций, охватывающая территорию с сечением не менее 300 - 500 км.
Но этого нам тогда не удалось добиться, вернее, доказать правительству города необходимость создания сети подобных станций. Теперь же работы нами вовсе прекращены, поскольку они требует значительных финансовых ресурсов, а у лаборатории их просто нет. А бум строительства высотных зданий, который охватил наш город, и неудержимый рост численности жителей эксстолицы, которая приближается к 2 миллионам человек, вновь заостряет проблему раннего прогноза землетрясений.
По нашим измерениям предшествующих лет средняя величина напряженности конформационных полей, контролируемая в районе расположения прибора, находящегося на окраине г.Алматы, с 1995г. по 2006г. возросла примерно в 17 раз (данные даны в относительных единицах, где максимальное значение напряженности в январе 1995г. принята за 1). По годам это соответствует следующему: июль 1995г. - 4,3; январь 1996г. - 5,2; .июль 1996г. - 9,4; январь 1997г. - 16.1; июль 1997г. - 11,2; 1998г. – 10,5; 1999г. – 10,3; 2000г. – 9,9; 2001г. – 11,5; 2002г. – 13,3; 2003г. – 15.7; 2004г. – 14,9; 2005г. – 16,5; 2006г. – 17,1. Эта величина отражает энергию деформации тектонических плит, то есть примерную величину энергии готовящегося землетрясения. Именно на уменьшение этой величины, которое происходит всегда после каждого землетрясения, случившегося даже за несколько сотен километров от прибора, мы случайно обратили внимание, что и позволило разработать сам метод прогноза землетрясений.
Для того, что бы привлечь внимание республиканского института сейсмологии к нашим работам мы передали им в 1998г. данные показаний наших приборов за несколько лет наблюдений. Но официального заключения по работе они нам так и не дали, а по телевиденью, видимо, с целью повысить свой рейтинг, институтом было объявлено, что кроме корреляции трендов наших кривых с барометрическим давлением в городе “большие вычислительные машины” института ничего не выявили.
С одной стороны это понятно, поскольку изменение атмосферного давления приводит к изменению давления атмосферы на тектонические плиты, что непременно должно отражаться на показаниях прибора, эта его главная функция. В общей сложности изменение атмосферного давления на 10 мм. ртутного столба, что случается с приходом циклонов, соответствует изменению общей величины распределённых сил, действующих со стороны атмосферы на тектонические плиты, находящиеся только под городом, приведёт к силе равной в сотни миллионов тонн. И никакие лазерные нивелиры и другие приборы регистрации известных, описанных выше, предвестников, этого сделать не могут. Высокую чувствительность нашего прибора своим заявлением невольно подтвердили сотрудники института.
Но с другой стороны институтом были полностью игнорирован анализ резких спадов на наших трендах, которые мы связываем с землетрясениями, произошедшими в других регионах, находящихся рядом с нашим городом. Действительно, тектонические плиты, на которых расположен город, находятся в непосредственном контакте с окружающей их твердой корой планеты и те изменения, а тем более землетрясения, которые происходят с соседними плитами, непосредственно сказываются на состоянии плит под городом. Но поскольку в нашем регионе, то есть под Алматой, эпицентров землетрясений не было за время наших наблюдений (город трясли только сейсмоволны от соседних землетрясений), то этот факт служил формальным основанием для сотрудников института не рассматривать наше объяснение локальных спадов кривой по существу.
Такая тенденциозность сыграла своё дело при принятии решения правительством города. И хотя приборный контроль “некой” физической величины, которая проявляет себя реально (есть аппаратура и методика измерения), непременно должен был бы привлечь внимание сейсмологов, а, тем более, когда авторы прибора упорно твердят о возможности точного прогноза землетрясения (которое грозит городу), но, тем не менее, время показало, что наши разработки такая же “заноза” для института, что и “бочки” Мартынова. Нас здесь воспринимают только как конкурентов при распределении финансовых средств, отпущенных на научные исследования по сейсмологии. При этом ясно и другое, что заниматься проверкой наших работ институт не будет, зачем “рубить сук, на котором сидишь”. Действительно, поддерживая имидж института его сотрудникам невозможно признать реальность создания другими нового метода прогноза, когда этот метод они должны были открыть сами (за это им платили деньги и платят сейчас). Так и трудится академический институт, отбиваясь от атак самодеятельных сейсмологов, но при этом, за всю историю своего существования, так и не создавший своего метода краткосрочного прогноза землетрясений.
В заключение необходимо отметить, что в последнее время всё же и здесь дело сдвинулось с мёртвой точки. С созданием республиканской организации “Казкосмос”, в планы работы которой входит исследование поверхности планеты из ближнего космоса спутниками дистанционного зондирования, в связи с чем у сотрудников института сейсмологии появилась вполне реальная возможность догнать нас в научном поиске создания “своего” метода раннего прогноза землетрясений. Действительно, совсем недавно была официально утверждена научная программа работ по изучению состояния космического пространства, с целью разработки способа раннего прогноза землетрясений. Однако в этой программе, к нашему искреннему огорчению, о работах Мартынова, в которых он впервые не только сформулировал проблему о связях космоса с геофизическими явлениями, но и практически реализовал свои идеи, создав огромный измерительный комплекс, даже не вспоминают (как, впрочем, и о наших работах).
Данная работа сейсмологов Казахстана в своей основе опирается на другие научные факты, которые не нашли пока общепризнанного объяснения, но являются, на наш взгляд, опосредованным доказательством объективности нашего метода. Программа работ базируется на необычном геофизическом явлении, которое впервые было обнаружено в Греции. Суть явления состоит в том, что электромагнитные волны изменяют свои параметры, проходя над зонами готовящихся землетрясений. В Греции была разработана и проверена система слежения за электромагнитными волнами, под названием ВАН, которая позволяла выделять очаги готовящихся землетрясений. Заметим, что, в силу особой значимости проблемы раннего прогноза землетрясений, аналогичные системы, следом за Грецией, были созданы во Франции и Китае.
Этот способ предвидения землетрясений интересен тем, что предвестник проявляет себя, находясь довольно высоко над поверхностью земли. При анализе особенностей этого явления, наши прежние оппоненты, всё же вынуждены были признать факт изменения свойств области пространства (или атмосферы), расположенного над поверхностью земли в зоне готовящегося землетрясения. Эти изменения свойств пространства (или атмосферы) только и возможно объяснить индуцированным влиянием на неё излучения, идущего от тектонических плит. В противном случае можно говорить только о неком “духе” землетрясения, который появляется, или из космоса, или выходит из недр планеты, и “беснуется” в зоне будущей катастрофы, мешая распространению электромагнитных волн. Но “Нет пророка в своём отечестве”! И если отбросить амбиции, то на наш же взгляд, сейсмологи сделали только первый шаг вперед в поиске предвестника. Разбор причин возникновения данного геофизического явления и выявление их физической сути, это только начало пути, который преодолели мы. К тому же сам способ, как таковой, нельзя брать за основу будущей разработки, поскольку он менее эффективен в сравнении с нашим - он опосредован.
Действительно, на распространение электромагнитных волн действуют множество разных факторов, при их движении от источника к приёмнику волн. Такие, как, например, состояние атмосферы, определяемое ветрами, облачностью и температурой воздуха, или свойства ионосферы и магнитосферы, которые прямо зависят от активности Солнца и т.д. И при этом, конформационное поле, которое непосредственно несет информацию о механическом состоянии плит, всего лишь только один из таких факторов, который уже вкупе со всеми, влияет на распространение электромагнитных волн. Тогда как наш прибор непосредственно измеряет состояние конформационного поля, а влияние на него других геофизических факторов (указанных выше) возможно только через это поле.
Если продолжить экскурс в историю открытия “особой зоны пространства”, прилегающей к поверхности планеты, которая спонтанно возникает перед землетрясением, то ещё более интересны были наблюдения, полученные на спектрометре "Мария", находившимся на станции “Салют 7”. Здесь, в околоземном космическом пространстве, на 200 километровой высоте, примерно за три часа до толчка, регистрируется изменение динамики потоков заряженных частиц. Аналогичную закономерность выявила обработка результатов экспериментов на спутнике "Метеор-3", но уже на высоте в 1250 км. Именно проверкой указанных выше эффектов, то есть выявлением причин их происхождения, заняты, как наши сейсмологи в купе с учёными других научных организаций республики, так и исследователи России и других стран. А это уже соревнование, и неизвестно то, кто кого опередит в поиске и кому будет сопутствовать успех “первооткрывателя”.
А когда “авторы нового открытия в области сейсмологии” получат положительные результаты в поиске причин этих явлений, то, вполне возможно, что с “удивлением” обнаружат наши работы, поскольку изменение свойств земной атмосферы и прилегающего к ней космического пространства, расположенного над эпицентрами будущих землетрясений, приводящие к описанным выше эффектам, можно объяснить только появлением у них определённой структуры (упорядочности, периодичности), какая имеется у кристаллов. Эта структура, как указывалось выше, обеспечивается конформационным полем от объёма сдеформированного вещества земной коры. Сделанные выше утверждения есть результат наших многолетних исследований. И останется ли за нами авторство, или это будет представлено в виде результата самостийных исследований “ новых” авторов? И когда это будет?! И главное, не слишком ли поздно это произойдёт для жителей Алматы.
Сложная сейсмическая ситуация, сложившаяся в регионе эксстолицы, та неопределённость, а по сути, невозможность дать точный краткосрочный прогноз землетрясения на основе известных методов, имеющихся в академическом институте сейсмологии, действительно чревата большой бедой. На этом фоне скорейшая разработка нового научного метода краткосрочного прогноза задача более чем актуальная для жителей Алматы. Процесс разработки метода необходимо ускорить. Тем более, что конкурентов здесь много и не только со стороны самодеятельных исследователей. Как указывалось выше, многие страны ведут аналогичные исследования, а информационная “птичка” уже давно вылетела из клетки и пока её заметят исследователи других стран надо казахстанской науке в полной мере воспользоваться плодами идеи, рождённой на казахстанской земле. Не следует сбрасывать со счётов того, что разработка нового метода прогноза (и даже научной идеи) - большая удача, которой может похвастать далеко не каждый научно-исследовательский институт даже после нескольких десятков лет напряженной поисковой работы. Не стоит забывать и о научном имидже, определяющем авторитет развитого индустриального государства, в ряды которых страстно стремится наша страна, который устанавливается не столько по наличию в стране солидной приборно-технической базы и количеству научно-исследовательских центров, а сколько по результатам труда учёных, базирующихся на научных и социальных идеях, зародившихся на казахстанской земле. При этом отметим, что приоритет на открытия, а, тем более, широкомасштабное внедрение которых должны обеспечиваться финансовой поддержкой государства.
Дата публикации: 2 февраля 2009